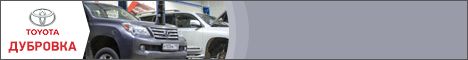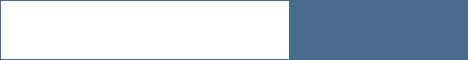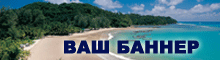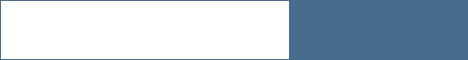«СП»: - Ещё два дня назад уровень опасности «Фукусимы» не превышал пятого пункта по шкале INES и соответствовал критериям «Ограниченный выброс: требуется частичное осуществление плановых мероприятий по восстановлению». Что заставило Национальное агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии поднять уровень угрозы сразу на два пункта?
- Ключевое слово в данном случае - «ограниченный». Авария на АЭС отличается от катастрофы тем, что масштаб её последствий в целом ограничивается промышленной площадкой самой станции. В этом случае персонал станции ликвидирует последствия инцидента своими силами или с привлечением местных властей. Начиная с шестого пункта шкалы INES, последствия инцидента начинают напрямую касаться окрестностей АЭС и проживающего там населения; персонал станции обязан поставить в известность о случившемся и запросить помощи у местных властей и руководства МАГАТЭ, которое, в свою очередь, обязуется предоставить всю необходимую помощь и советников. Очевидно, здесь мы имеем дело именно с таким случаем: администрация и персонал «Фукусимы» расписываются в неспособности ликвидировать последствия катастрофы своими силами и просят помощи.
«СП»: - Если сравнивать две катастрофы, - чернобыльскую и японскую - удостоенные седьмого уровня по шкале INES, какая из них представляется вам более опасной с точки зрения долгосрочных последствий?
- С точки зрения долгосрочных последствий «Фукусима», безусловно, опаснее Чернобыля. Чернобыльская АЭС, напомню, была расположена в относительно замкнутой экосистеме. Разброс главного разносчика последствий катастрофы – радионуклеидов – был ограничен розой ветров и бассейном реки Припять, из которой брали воду для горящего реактора. В случае же с «Фукусимой» воду брали прямо из Мирового океана и туда же сливали уже заражённую, причём в количествах, которые только ещё предстоит оценить.
«СП»: - Защитники подобной практики утверждают, что в масштабах Мирового океана степень загрязнения в целом снизится до пределов допустимого…
- Диффузионный эффект действовал бы, если бы радионуклеиды, вброшенные в Мировой океан с водой из «Фукусимы», так и оставались бы в воде. К несчастью, они довольно быстро оседают в илистых донных отложения и там включаются в трофийные, то есть пищевые цепочки мирового океана. Из придонного ила черпает питательные вещества растительный фитопланктон, который, в свою очередь, становится пищей зооплактона. Эти так называемые продуценты идут в пищу консументам – организмам, потребляющим органические вещества, созданные продуцентами. Наиболее знакомыми нам консументами являются ракообразные, рыбы и, в конце концов, сам человек, стоящий на вершине трофийной цепочки.
В живых организмах продукты ядерного распада не диффузируются, как в водах Мирового океана, а, напротив, накапливаются. Именно в таком, накопленном виде они распространяются, скажем, в составе мигрирующих косяков рыб, откушавших заражённого планктона, а потом, когда рыба оказывается выловлена человеком, распространяются и по суше, через сети мировой торговли. Мировой океан – это не просто большое корыто с дистиллированной водой, это единая экосистема – и сегодня она под ударом.
Простейший пример: каждому из нас в повседневной жизни необходим йод – и мы даже не задумываемся, что берём его именно из Мирового океана, где он абсорбируется сине-зелёными водорослями. Однако после катастрофы на «Фукусиме» водоросли начнут накапливать не обычный йод, а его радионуклид с массовым числом 131, то есть упомянутый уже выше I-131, чрезвычайно радиоактивный. И если человечество ещё способно отказаться от употребления морепродуктов – в частности, устриц и мидий, которые вместо кальция после «Фукусимы» накапливают в своих организмах стронций, то чем заменить йод в медицине, я лично не знаю.
 Автор
Тема: Повышение радиации на АЭС (Прочитано 41437 раз)
Автор
Тема: Повышение радиации на АЭС (Прочитано 41437 раз)