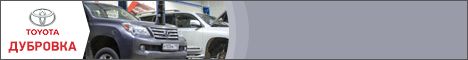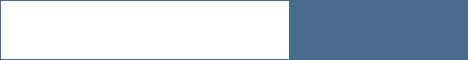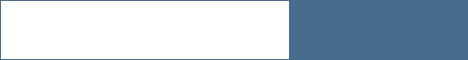Среди офицеров, участвовавших в штурме Гянджи, были Александр Христофорович Бенкендорф и Михаил Семенович Воронцов. Впоследствии боевая юность позволили Петру Степановичу запросто общаться с бывшими сослуживцами: со ставшим начальником жандармского управления графом А. Бенкендорфом и с будущим Кавказским наместником графом М. Воронцовым. С Михаилом Семеновичем они дружили до самой смерти генерала Котляревского. Во время штурма Гянджи перед одной из рот шел ее командир штабс-капитан Котляревский. Он попытался без лестницы вскарабкаться на наружное укрепление и был ранен в ногу. Умидев это, Михаил Воронцов и рядовой Богатырев из роты Котляревского поспешили раненому на помощь. Богатырев тут же упал, пораженный вражеской пулей. Михаил Семенович, не обращая внимания на огонь противника, отвел Котляревского в безопасное место. Это было первое в жизни ранение будущего генерала. За штурм Гянжи Котляревский получил чин майора и орден Святой Анны 3 й степени с бантом. За несколько лет до смерти, отвечая на письмо Кавказского наместника князя Воронцова, в котором тот сообщил о своем намерении поставить Котляревскому памятник в Гяндже, Петр Степанович писал: «… Гянджою открыта первая персидская война и одна из первых пуль досталась мне, Ленкораном заключена война, и три из последних пуль достались мне же, следовательно, и начал и кончил кровью. Но для меня было бы приятнее, когда бы на Ганджинском памятнике можно изобразить тот момент, в который вы взяли меня раненного, под одну руку, а взявший под другую егерь моей роты Иван Богатырев был тут же убит. Эту картину хочу иметь написанную хорошим живописцем и передать ее в род мой с завещанием хранить и питать благоговейное уважение к имени Воронцова до позднейшего потомства».
Русско-персидская война раскрыла обширные таланты Петра Степановича. В 1805 году 70000 армия персов переправилась через Аракс, оттеснив батальон 17 го егерского полка, которым командовал майор Д. Лисаневич, и двинулась на Шушу. Князь Цицианов направил на помощь Лисаневичу батальон с двумя орудиями того же полка под командой командира полковника П. Корягина.
Рота Котляревского вошла в состав отряда полковника Корягина. Павел Михайлович Корягин выступил из Елизаветполя 21 июня на Шушу и через три дня отряд подошел к замку Шах-Булах. Название свое укрепление получило от родника с таким же названием. Шах-Булах переводится, как «Шахский родник». В верстах десяти от родника, на берегу речки Аскарани, располагалось старое татарское кладбище. И замок, и кладбище стали немыми свидетелями морального духа и отчаянной храбрости российских солдат.
Передовые части персов, под командой Пир-Кули-хана, атаковали Корягина. Но так как персидский отряд насчитывал не более трех-четырех тысяч, егеря, свернувшись в каре, продвигались вперед, отражая атаку за атакой. Когда же под вечер показались главные силы персов, во главе с Аббас-Мирзой, Россияне поняли, что продолжать движение дальше бессмысленно. Нужна оборонительная позиция. Выбор его пал на пригорок с кладбищем. Кладбище было занято, повозками из обоза загородили все подступы. Персы решают взять позицию отряда приступом. Непрерывные атаки были отбиты. Так продолжалось до глубокой ночи. Отряд потерял почти половину личного состава — 197 человек. Надежда получить помощь от союзника — Карабахского хана — иссякла. На третий день персы отвели от осажденных воду. Четыре фальконетные батареи день и ночь обстреливали позицию противника. «Мы очутились точно в осажденной крепости, — писал очевидец. — Нестерпимый зной истощал наши силы, жажда и голод нас мучили, а выстрелы из батарей не умолкали. С этой минуты потери отряда стали быстро расти. Сам Карягин, контуженный три раза в грудь и в голову, был, наконец, ранен пулею в бок; командир батальона, майор Котляревский … получил также ранение в ногу, а большинство офицеров выбыло из строя еще в первый день битвы. В таком положении прошел еще день, но далее держаться без воды было невозможно. Тогда Карягин решился на отчаянный подвиг: он вызвал сто егерей и приказал поручику Ладинскому атакой завладеть персидскими батареями или, по крайней мере, согнать неприятеля с занятой им позиции». Группа сделала вылазку в лагерь противника и, добыв воду, возвратилась с пятнадцатью фальконетами. А на следующий день Ладинский, уцелевший в ночной вылазке, был ранен в лагере обороняющихся. Кстати, генерал Петр Антонович Ладинский прожил рядом с Котляревским последние годы его жизни. Не обошлось в отряде и без предательства. Поручик Лисенков, оказавшийся французским шпионом, навел на засаду группу в 35 человек.
Полковник Корягин принимает решение, бросив обоз пробиваться к небольшой крепости Шах-Булах. Идея этого маневра была предложена Котляревским. Армянин юзбаши Вани Атабеков взялся провести отряд. Обоз оставили на разграбление неприятелю, пушки надежно зарыли. Помолились, забрали раненых и тихо, без шума, в самую полночь 29 июня выступили из лагеря. «Кавказский Нестор» В. Потто задает риторический вопрос: «Возможно ли было пробиться с истощенным отрядом, имевшим на своих руках такое громадное количество раненых?», — и сам же на него отвечает: «Вопрос об этом, однако, не смущал никого. Карягин просто объявил отряду о своем решении, и оно было принято всеми с единодушным восторгом. Все глубоко сознавали, что лучше умереть в бою, чем опозорить себя сдачей неприятелю. Решили дождаться ночи и под ее покровом идти напролом. «Идти напролом, — сказал Карягину Вани, — нельзя: нас уничтожат без всякой пользы. Доверьтесь мне, я знаю Карабах, как свои пять пальцев, и проведу вас по таким тропам, по которым никто не ходил, и которые потому почти не наблюдаются персиянами». «А прийдет ли там артиллерия?» — спросил Карягин. «Где не пройдет, там мы перенесем ее на руках, — отвечал Вани. — Я спасу и людей и пушки». Карягин и Котляревский, безусловно, доверились молодому армянину. Вани шел впереди и указывал путь, а за ним бесшумно, в глубоком молчании, продвигался отряд, старавшийся не обнаружить себя ни единым звуком. Вот уже линия блокадных пикетов осталась за нами, и только в стороне, в нескольких верстах, виднеется еще какая-то густая темная масса. Вани говорит, что это главный персидский караул, оберегающий большую елизаветпольскую дорогу. Благополучно прошли мимо него, как вдруг лицом к лицу столкнулись с каким-то конным разъездом. Выстрел, внезапно прогремевший в ночной тишине, тотчас подхваченный в главном карауле, поднял тревогу во всем персидском стане. Но пока там разобрались, в чем дело, пока поднимали войска и направляли их в погоню, отряд наш, ускорив шаг, уже стоял у стен Шах-Булаха.
Начался рассвет. На высоком каменном пригорке виднелся грозный замок, обнесенный кругом высокой каменной оградой с шестью зубчатыми круглыми башнями. Комендантом крепости был некто Ифиал-хан, близкий родственник и друг Абасс-Мирзы, и при нем находилось 150 человек пехоты; в ближайшем лесу стояли резервы. В предрассветной мгле на чистом небе отчетливо вырисовывались фигуры часовых, ходивших на стенах от башни к башне; но внутри замка все было тихо и безмолвно. Гарнизон, не ожидая нападения с этой стороны, покоился крепким предутренним сном. Медлить, а тем более колсовокуплятся, было нельзя. Солдаты подкатили орудия под самые ворота и сделали залп. Ворота рухнули, и через эту брешь весь отряд устремился в замок. Ужас овладел персиянами. Гарнизон бежал, оставив на месте более тридцати человек убитыми, в числе которых находились два хана. Убит и сам Ифиал-хан, тело которого, брошенное бегущими, осталось в наших руках. Персидский резерв, стоявший в лесу, также поддался панике и не дал помощи. Котляревский был ранен в руку.
«Крепость мною взята, неприятель из оной прогнан, — лаконично донес Карягин. — Ожидаю повеления Вашего сиятельства». Часа через два вся персидская армада стояла под замком. Штурм отбили и персы, взяв замок в кольцо, приступили к блокаде. Наступал голод. В отряде не было продовольствия. Несколько лошадей, отбитых у персов, были съедены. Четыре дня солдаты питались травой, но и травы стало не достать, так как противник выставил дополнительные пикеты. Опять на выручку пришел юзбаши Вани. Зная всю округу, как свои пять пальцев, он пробрался в родное селение за 20 верст и принес в замок 40 больших хлебов, чеснока и овощей. Удачная продовольственная вылазка ободрила осажденных. Полковник Карягин в следующий раз послал с юзбаши 50 солдат. В замок благополучно были доставлены 12 быков, вино, фрукты, овощи и два котла. Персы не знали, что осажденные обеспечили себя продовольствием и Абасс-Мирза предложил отряду почетную капитуляцию. И Карягин ответил согласием: «Пускай его высочество завтра утром займет Шах-Булах». 7 июля Корягин с Котляревским под покровом ночи покинули крепость, двинувшись к другой крепости Мухрат, расположенной в 25 верстах от Шах-Булаха. Проводником опять был юзбаши Вани: «Едва мы успели соединиться, как встретили опять конный разъезд, который бежал и поднял тревогу в лагере. Но персияне не могли нас настичь, ибо не знали по какой мы пошли дороге. На пути нам встретилась канава, через которую невозможно было перевезти орудия, и не было лесу, из чего бы можно было сделать мост. Четыре солдата добровольно вызвались лечь в канаву». Перетащить пушки предложил рядовой 17 го егерского полка Гаврила Сидоров: «Ребята, — крикнул вдруг батальонный запевала Сидоров. — Чего же стоять и задумываться? … у нашего брата пушка — барыня, а барыне надо помочь; так перекатим-ка ее на ружьях». Одобрительный шум пошел по рядам батальона. Несколько ружей тотчас же были воткнуты в землю штыками и образовали сваи, несколько других положены на них, как переводины, несколько солдат подперли их плечами, и импровизированный мост был готов. Первая пушка разом перелетела по этому в буквальном смысле живому мосту и только слегка помяла молодецкие плечи, но вторая сорвалась и со всего размаху ударила колесом по голове двух солдат. Пушка была спасена, но люди заплатили за это своей жизнью. В числе их был и батальонный запевала Гаврила Сидоров. Как ни торопился отряд с отступлением, однако же солдаты успели вырыть глубокую могилу, в которую офицеры на руках опустили тела погибших сослуживцев. Сам Карягин благословил этот последний приют почивших героев и поклонился ему до земли». В. Потто заметил, что в официальном донесении командира отряда полковника П. Карягина ни слова об этом не сказано: «Возможно, что для него, свидетеля целого ряда жертв, принесенных его солдатами для спасения чести русского оружия, подвиг этот не представлял ничего выдающегося, и он забыл о нем, будучи всецело поглощенным заботами о судьбе вверенного ему отряда». Через несколько часов отряд достиг селения Касапет и расположившись в садах, а ночью двинулся дальше к Мухрату, отстоявшему отсюда верстах в пяти к северо-западу. Для персов в Мухрате это было полной неожиданностью и крепость буквально сразу была взята. Здесь отряд продержался несколько дней, пока на выручку не подоспел князь Цицианов. Обходя раненых, князь Цицианов обещал рассказать государю императору о подвигах отряда, а поручика Ладинского поздравил с награждением орденом Святого Георгия 4 й степени. Павел Михайлович Карягин был награжден золотой шпагой «За храбрость», а армянину юзбаши Вани Атабекову пожалован чин прапоршика, золотая медаль и 200 рублей пожизненной пенсии. Котляревский был награжден орденом Св. Владимира 4 й степени с бантом.
Успешно проводя имперскую политику, главнокомандующий князь Павел Дмитриевич Цицианов нацелил свои взоры на Бакинское ханство. Целью было утвердиться на Каспийском море. Для этого Каспийская флотилия с десантом, под командой генерал-майора Завалишина обложила Баку с суши и с моря. Российским войскам пришлось отступить, когда на помощь бакинцам пришел кубинский хан. Тогда Цицианов предпринял экспедицию на Баку. «Войска шли через Ширванское ханство, и Цицианов, так сказать, мимоходом присоединил его к русским владениям. 25 декабря 1805 года Мустафа-хан ширвинский подписал условия подданства, и теперь со стороны Каспийского моря осталось покорить только Баку». 30 января 1806 года российские войска вступили в пределы Бакинского ханства. Участвовал в походе и П. Котляревский, несмотря на полученный чуть больше месяца назад раны. Он командовал авангардом.
 Автор
Тема: ГЕРОИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ! (Прочитано 1966 раз)
Автор
Тема: ГЕРОИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ! (Прочитано 1966 раз)